Международная терминология и сравнительный анализ: чем российская система отличается от зарубежных
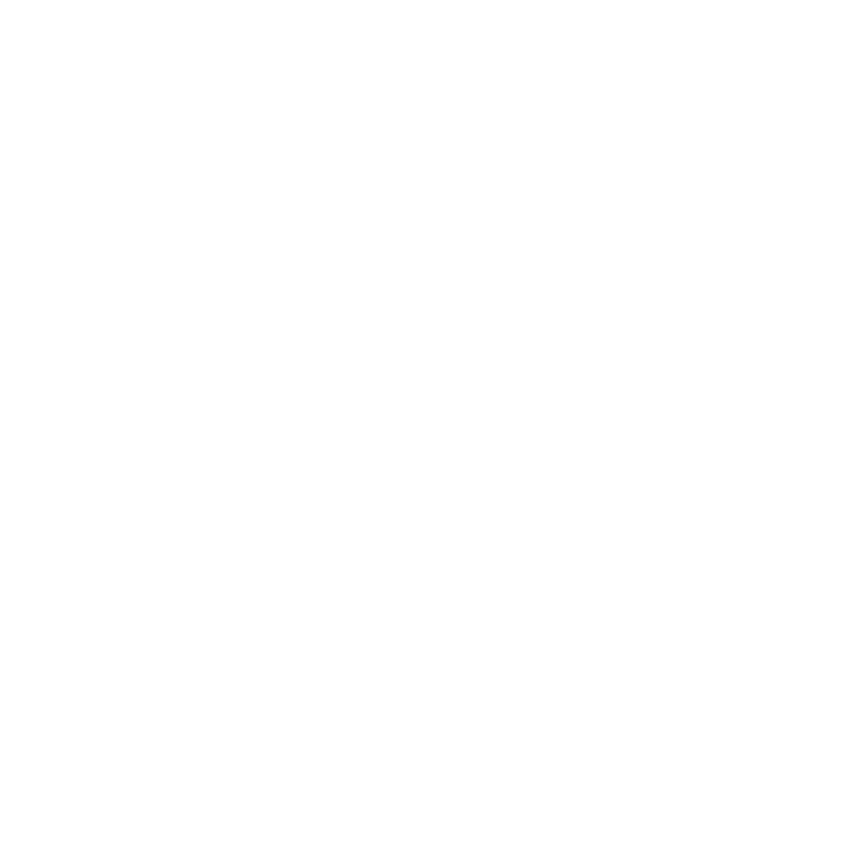
Автор статьи: Сбытова Ирина
Проектный менеджер компании "Интеграл"
Время прочтения: 4 минуты
Дата публикации 30.09.2025
Содержание:
- Различия англо-саксонской и континентальной моделей
- Ключевые отличия схемы подходов:
- Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО
- Недостатки терминологии на практике
- Эффективные международные практики
- Выводы
В международной практике охраны культурного наследия терминология и подходы развивались в разных правовых традициях. В странах англо-саксонской системы (Великобритания, США, Австралия) термин «heritage» трактуется широко, включая как материальные, так и нематериальные элементы, а основой охраны чаще всего является список («listing») или реестр, формирующий гибкий, открытый для обновления подход. Континентальная модель, принятая в России, Франции, Германии, Италии, опирается на централизованное администрирование и иерархическую классификацию объектов на основе экспертных процедур.
Параметр | Англо-саксонская система | Континентальная система (вкл. РФ) |
Право собственности | Гибкое: возможны работы при согласовании | Жёстко ограничено охранным обязательством |
Ведение реестров | Списки с градациями и обратимостью | Централизованный Государственный реестр |
Подход к понятию ансамбля | Добровольная охрана сред | Обязательная охрана территории и связей |
Роль органов власти | Скорее кураторская, но с правом вето | Регуляторная, нормотворческая |
Интеграция сообществ | Широкая, в рамках публичных консультаций | Ограниченно, по факту решений экспертов/госорганов |
Россия следует континентальной модели, унаследованной от дореволюционной и советской системы охраны. Это означает приоритет юридического акта и экспертной оценки над инициативами «снизу», а также доминирование публичного интереса. В результате терминология закрепляется не через приложение к действию, а как обязательная категория, напрямую влияющая на законность архитектурных и имущественных операций.
На уровне ЮНЕСКО действует Конвенция 1972 года об охране Всемирного культурного и природного наследия. Она ввела понятия «объект всемирного наследия», «универсальная ценность», «интегральность (исключительность)». Однако юридическая система ЮНЕСКО не подменяет национальные законодательства — напротив, каждое государство должно адаптировать конвенционные нормы в своих правовых реалиях.
В России это реализуется следующим образом:
● объекты ЮНЕСКО вносятся в федеральный реестр как ОКН федерального значения;
● разрабатываются дополнительные нормативные режимы: например, зоны охраны объекта ЮНЕСКО рассматриваются отдельно (вспомним исторический центр Санкт-Петербурга);
● терминология ЮНЕСКО (buffer zone, authenticity, integrity) адаптируется через официальные переводы и управленческие регламенты.
Однако перенесение этих понятий не всегда полностью удаётся из-за различия в подходах. Например, «buffer zone» в российской правоприменительной практике слабо интерпретируется в ПЗЗ или кадастре, что мешает полноценному исполнению рекомендаций ICOMOS.
мы с вами свяжемся.
В смешанных реставрационных проектах, особенно при участии международных консультантов, часто возникают конфликты из-за несовпадения используемой терминологии. Примеры таких расхождений:
● «Cultural landscape» (ЮНЕСКО) включает не только территории с визуальной и природной ценностью, но и хозяйственную деятельность на них. В российской правовой системе эквивалента нет, а понятие «достопримечательное место» обеспечивает ограниченное соответствие.
● «Listed building» (Великобритания) — любое здание, включённое в реестр, вне зависимости от значимости. В РФ такое понятие требует чёткого разграничения по категориям (федеральный/региональный/местный), и ошибочный перевод может привести к путанице в охранных режимах.
● «Heritage asset» (австралийская и американская системы) — экономическая категория, рассматривающая объект как инвестиционно и функционально значимую единицу. В России отсутствует интеграция термина «наследие» в финансовое право в подобной форме.
Российская система нуждается не в механическом копировании международных подходов, а в осмысленном встраивании терминологических решений, доказавших эффективность. Возможные направления внедрения:
● Интеграция понятий «визуальный коридор» и «видопроекция» в проекты зонирования и документацию на охрану;
● Признание ценности материально/нематериального ансамбля как целостного образования, и не только в виде классификации, но в охране повседневных практик;
● Закрепление «historical layer» как категории, обеспечивающей право работы с динамично развивающимся наследием — от арт-объектов до объектов позднего модернизма;
● Внесение в ПЗЗ охранных терминов, как это реализовано во Франции, где термин «monument historique» автоматом запускает согласовательную процедуру во всех инстанциях.
Кроме того, стоит развивать публичную часть терминологии: в Великобритании каждый объект снабжен карточкой, где указано, почему он охраняется. У нас же — только документация на десятки страниц без объяснительных материалов для общественности.
Российская система охраны объектов культурного наследия обладает детальной моделью терминологии, но в ряде аспектов остаётся замкнутой на внутренние правовые координации. Отсутствие сопоставимых категорий «cultural assets», «cultural environment», «heritage value» в публичной политике не позволяет использовать потенциал гибкости. Международный опыт показывает: стабильно работают те системы, где термины не только определены нормативами, но и являются частью широкой профессиональной и гражданской культуры. Именно это целеполагание должно быть заложено в эволюцию российского понятийного аппарата в сфере культурного наследия.





